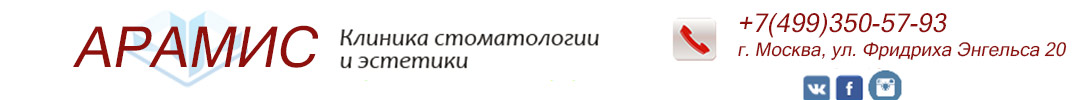Клейменычев дмитрий зуб дракона
Опубликовано: 28.04.2024
-->
| Стихи [89] |
| Проза [993] |
| Публицистика [391] |
2 июня, по дороге, пронизывающей эту Чарикарскую Зелёнку, идёт колонна бронетранспортёров БТР-70В. Сверху на броне навязаны ящики с боеприпасами, вещмешки и на всём этом добре цыганским табором сидят солдаты. Все в бронежилетах, в касках, с оружием в руках. Это Гвардейская Седьмая Горно-стрелковая Рота выдвинулась из Баграма к новому месту дислокации, расположенному в Панджшерской долине. Что это за долина, что это за Панджшер, я ещё ни разу в жизни не видел. Но уже кое-что слышал. Для начала меня удивило само название «Панджшер». Что за манеры – напихать столько шипящих в одно слово. Да ещё подряд – череда одних согласных. Как же это можно произнести? Какое-то шипение сплошное, а не название. И вот первое, что я услышал - перевод этого сложного слова. Панджш, это – пять. Шер, это – лев. То есть, «Ущелье Пяти львов». Потом я услышал, что в этом ущелье самому Александру Македонскому не то дали звездюлей, не то надрали задницу, не то остановили его и дальше не пустили, что, в общем-то, одно и то же. Практически, то же самое. Очень романтическая история. Слушал бы и слушал. Если бы мне не надо было туда ехать и делать то, что не получилось у Македонского.
А потом, в Баграме, я послушал тех, кто в том Панджшере побывал. На территории палаточного городка 108-й дивизии, недалеко от палаток нашей роты, стояли палатки спецназовцев. Как-то в мае 1984-го в эти палатки пришагали пацаны, одетые в блёклое, выцветшее на афганском солнце обмундирование. На ногах – у кого кроссовки, у кого кеды. На головах – спецназовские кепки, панамы и, вообще, что попало. В руках, либо пулемёт ПК с лентой на 100 патронов, либо снайперка. Пара человек вооружена АКМами с ПБС (приспособление для бесшумной стрельбы). На каждом АКМе – подствольный гранатомёт. А мы такие зелёненькие, в свежих хэбухах защитного цвета. В начищенных до блеска черных полусапожках. Рядом с ними мы выглядели как Кремлёвские Курсанты. Ну, одним словом, они уже ветераны, а мы – «только с вертушки». Мы ничего не знаем, ничего не умеем. И годимся только пускать сопли и мести двор ржавой лопатой.
А прикол весь в том, что притопали те пацаны из Панджшера. Они простояли в Рухе, в столице Панджшера, полгода. И теперь их вывели, а нас туда вводят. Ясный пень, что мы побежали слушать этих пацанов. Что же это там за Руха, что в ней происходит, и чего нам от неё ждать. Вкратце их рассказы сводились к тому, что они при свете дня по Рухе перемещались – либо бегом, либо ползком. Потому что с гор постоянно работали снайперы противника, стреляли крупнокалиберные пулемёты ДШК и лупили восьмидесятимиллиметровые миномёты. И из-за этого нам следует ждать от Рухи бесконечную горную войну, мины всех видов и конструкций, вкалывание до седьмого пота. Днём жара, ночью дубак, обезвоживание… Ништяк перспектива!
И вот теперь в эту Руху я еду на БТРе. И единственное, что из рассказов спецназовцев хоть как-то скрашивало перспективу, это то, что в Рухе – красивая природа. Я и так попыжился, и сяк попыжился, чтобы представить себе – как может быть красивая природа в горах. В блёклой дымке, в детстве, я один раз видел заснеженные вершины Кавказского хребта. В Грузии, с пляжа, на берегу Чёрного моря. И как я могу представить себе красивую природу в горах? Никак я не могу себе её представить. Поэтому в голове у меня получалось только то, что я еду лазить по минам без воды в жару и в пургу под пулями снайперов. На какой-то там красивой природе!
Любой здравомыслящий человек в такие минуты захочет ущипнуть себя за что-нибудь мягкое, чтобы взвизгнуть и проснуться в холодном поту. Обвести очумелым взглядом уютную комнату в советской квартире, вытереть со лба набежавшую от ужаса испарину и выдохнуть – пф-ф-ф, надо же! Привидится такое! И я щипаю себя. За правое бедро. Не-а! Не помогает. Я щипаю ещё раз, сильнее. Потом щипаю, вообще, пуще прежнего. Но БТР не исчезает. Он прёт по колдобинам разбитой афганской дороги, визжит движками, пылит и очень сильно качает.
- Что, Димон? Мандавошки, что ли, егозят под штанами? – Это мой дружбан Серёга Губин решил блеснуть остроумием. Насчёт моих пощипываний
самого себя за ляжку.
- Нет. Спортивный массаж себе делаю перед подъёмом в горы!
- А-а-а, ну давай-давай! Вам, спорЦмэнам без массажа по горам – никак! А нам, разгильдяям, надо покурить сигаретку. Чтобы лёгкие привыкали к разреженному воздуху.
БТР сильно толкнуло на очередном ухабе. Мы всем набором костей звякнули задницами по броне.
- Ништяк плацкарта! – Серёга щурится в улыбке. Морщинки лучиками расходятся в уголках глаз. Он источает приступ счастья. Боже, когда же мы уже доедем?
С другой стороны, а тебе что, не терпится по такой жарище полезть на гору по ржавым минам с центнером железа на плечах? Куда ты торопишься доехать? Не в Гагру же тебя везут. Едь, пока едется! С этой мыслью я покрутил настройки своей зрительной системы и принялся изо всех сил наводить резкость на проплывающие мимо меня пейзажи.
Виноградники. Сады. Жёлтые глинобитные дувалы. Как детские жёлтые кубики, составленные друг на друга. Бачи, одетые в свою мешковатую, развивающуюся на ветру одежду. И срач! Вечный вездесущий срач, как образ жизни.
Я ехал, судорожно хватался за железяки БТРа, чтобы не свалиться. Тихо дурел от увиденного. И неожиданно поймал себя на мысли, что вот эти все замурзанные бачи, что вот эти все полудикие люди, они гораздо более свободны, чем я. Я уже почти год не могу себе позволить выйти вот так, присесть на корточки возле кучи мусора. Засунуть руки в карманы. Или засунуть себе в клюв сигарету. Наполненную чарзом. И сидеть, сведя глаза в переносицу, делать себе вакуум в черепной коробке.
- Серёга, а ты до войны чарз курил? – Я наклоняюсь к Серёге, чтобы перекричать рёв движков БТРа.
- Ха! У нас, на Северном Кавказе, када коноплю комбайны убирают, там тада на шкивах по всему комбайну – во! – Серёга вскидывает к моему носу свой указательный палец. – Во! В, палец толщиной вот эта вся фигня ремнями сбита. Такое густое, прям, как пластилин. У нас так его и называли. Либо пластилин, либо шмаль. Чарз, это тут, на местном языке. А у нас такого слова не было.
- Взвод! От техники никуда не отходим! – Это командир взвода старший лейтенант Старцев встал в командирском люке и повернулся к нам. БТР сильно качнулся, остановился. Сбросил обороты движков и теперь командир взвода может докричаться до нас. – Впереди развилка дорог. Пропустим встречную колонну и пойдём дальше.
Это мы заехали в кишлак Гульбахор. Встали по середине улицы дуканов. БТР тут же окружила стайка бачей.
- Так, пацаны! – Фарид, наш водила, вылез из люка, встал ногами на броню и обратился ко всем, сидящим на его БТРе, – Эта малышня сейчас весь БТР разукомплектует. Поэтому, разобрались все вокруг машины, и не подпускайте их к технике!
Фарид – уже Дедушка Советской Армии. В Афгане полтора года. Он знает, что делать. Поэтому мы с Серёгой соскочили с брони на дорогу и встали возле БТРа. Потянулись, размяли ноги, покрутили жопами. Подошёл пацан лет двенадцати. Чумазый. Страшный, как моя доля. Показал пальцем на двуручную пилу, закреплённую на броне заводом-изготовителем.
- Чан афгани? – Это значит – «сколько тебе за неё дать денег».
- Буру, бача. – Это Фарид ему. А это значит – «уйди, пацан».
Пацан показывает на большую сапёрную лопату. Закреплённую рядом с пилой. И тот же вопрос:
- Чан афгани?
- Ты чё, не догоняешь по-русски? – Это уже Серёга пацану. – Ты чё, душман?
- Душман нист! Душман Панджшер! – Пацан махнул рукой куда-то на север. Но от БТРа отошёл.
Вот интересно, подумал я сам себе. Даже двенадцатилетний сопляк знает, где находится этот Панджшер. А я, уже нормальный крендель, отучился год в университете, и ни разу не знаю, где тот Панджшер. Ну ладно, я завтра доеду и узнаю. А он вряд ли когда-нибудь хоть что-нибудь узнает про Минск. У каждой лягушки должно быть своё личное любимое болото.
Потом колонна снова поехала. Потом снова остановилась. На этот раз никто не объяснял нам, зачем мы стоим. А жарко было – пипец-пипец! И мы слезли с раскалённой брони и полезли на каменную стену, которая огораживала сад с огромными фруктовыми деревьями. Там была тень и прохлада. Мы спрятались туда от жары.
Туда же вышел высокий пожилой мужик с длинной бородой и в белой мешковатой одежде. Не знаю, может быть он был и не пожилой, но вот – такая длинная борода! По нашим европейским понятиям, это – Дедушка Мороз. Только он не успел одеть красную шубу и шляется по саду в белых, вызывающих смех, подштанниках. Наверное, смотрит, чтобы мы ничего не стырили.
- Душман?! – Серёга снова проявил чудеса остроумия. И знание местного диалекта. Поэтому навёл на дядьку указательный палец и спросил поражающий своей глубиной вопрос. А дальше повторилось всё то же самое.
- Нист душман! Душман Панджшер! – дядька махнул рукой на север.
«Слушай, они тут все знают, где Панджшер. И все знают, где искать душманов», – подумал я про их способности к географии. Но потом колонна поехала и оказалось, что Панджшер был буквально за забором от этого сада. Буквально, за первым попавшимся поворотом Чарикарская Зелёнка схлопнулась. Из коричневых корявых скальных торосов потекла бурлящим потоком вода. И наш БТР поехал прямо в эту воду.
Полотно дороги так близко подходило к водным бурунам, что казалось, нашему БТРу придётся расталкивать эти буруны и коричневые булыганы плечами, чтобы пролезть в горловину входа в Панджшерское ущелье.
Полотно дороги, это не полотно дороги вовсе. Я не могу в русском языке подобрать подходящих слов для этих ям, выбоин и колдобин, по которым мы ехали ко входу в Панджшер. То ли река, то ли ещё какое чудо природы пробило в коричневых скалах дыру. Из этой дыры вываливается бурлящая, ревущая вода. И вот у этой воды отковыряли полосочку территории. И мы теперь по этой территории пытаемся прощемиться внутрь. Страшно – аж жуть!
Слева скала. Справа ревёт вода. БТР качает на камнях и колдобинах. А на тебе бронежилет 12 кг, каска, и в руках пулемёт. Ну, допустим, подсумок с магазинами ты можешь с себя снять и закинуть внутрь БТРа. А остальное? Вот долбанёт под колесом БТРа мина, или на яме БТР сильно подскочит. Или ещё какая зараза. И что ты должен делать? Ты дохрена проплывёшь в бронежилете и в каске? А с пулемётом в руках? Я ещё ни разу не пробовал. Но что-то мне подсказывает, что – как кирпич. У топора – хоть черенок пытается всплыть, если его с БТРа сбросить в воду. А у кирпича только «бул-тых»… и драные носки дымятся на СПСе (СПС – стрелковое полевое сооружение). Нет, не то сказал. И грязные брызги полетели в разные стороны. А в такой бурлючке, да тут первое же, что с тобой произойдёт, это тебе об камни переломает шею. Рёбра останутся целыми. Бронежилеты у нас делают хорошие. А с шеей как быть? Как со сломанной шеей плавать под водой, в бурунах и с пулемётом в руках? Бросить его нельзя. За это будет трибунал. Ну, даже пусть бы хрен на тот трибунал. А что я бате скажу? Как это меня призвали в Армию, а я просра… протерял личное оружие и угодил под трибунал? Поэтому я изо всех сил цеплялся скрюченными пальцами за раскалённую броню и судорожно сжимал-разжимал закорючки извилин. Пытался выжать из них максимальную умственную мощность, чтобы придумать, что же, всё-таки, делать, если что-то пойдёт не так. Очко так сильно сжалось от натуги, что пришлось забыть про жару, про то, что хочется пить, и только одна мысль – «если БТР начнёт заваливаться левым бортом вверх, то бегу на левый борт вверх».
Если удастся сделать такой манёвр при сползании БТРа в реку, то есть шанс остаться на полотне. А если правым бортом вверх, то – что делать?
А если вверх правым, то мне – капут! Потому что, задирая вверх правый
борт, БТР прижмётся к скале. И раздавит всех, как слизняков. Спрыгивать с БТРа в воду? Ага, прикинь так, БТР начнёт валиться, задирая правый борт. Я очкану, спрыгну в воду. А БТР устоит. Обидно же будет? Нет, конечно же. Потому что, убьюсь, если спрыгну.
БА-БАХ! И впереди идущий БТР стал крениться вверх левым передним углом. По диагонали. Вот этого я точно никак не ожидал! А на самом деле – всё просто. Серёга Кондрашин, который сидел за баранкой этого БТРа, ни хрена не умел представлять габариты управляемой им единицы боевой техники. В степи, в Казахстане, никто и никогда об этом не догадался бы. А вот на узкой горной дороге – догадались. Потому что БТР усандалился мордой в скалу и полез на неё, шкрябая волноотражателем по базальту. Первым обо всём догадался пацан, который сидел на запаске. На башню этого БТРа закинули запасное бронированное колесо (запаску). Кряхтели, пердели, но затащили. Потому что оно весит 120 килограммов. И в это колесо уселся самый борзый дембель. Свил гнездо, как орёл, ещё подумал тогда я. И вот сейчас этот орёл из того гнезда полетел кверху тормашками. Шлёпнулся в пылищу и сразу же обо всём догадался. Бац, бац, бац – пошлёпались на жопы в ту же пылищу остальные пацаны с того БТРа. И тоже обо всём догадались! И стали кричать на Кандера, что ему не надо БТР водить. Ему надо стадо баранов водить. Но это всё ерунда. Самое грустное было в том, что закричал Рязанов.
- Кондрашин! Шагом марш из-за руля!
Это – очень страшные слова. Потому что Рязанов у нас – Командир Роты. И это он решает, кто будет крутить баранку, а кто таскать вещмешок по ржавым минам. И похоже, что Кондрашин теперь будет таскать вещмешок по ржавым минам.
Глава вторая. Рядовой Орлов
Вася Бёрнер
Давным-давно, уже целый месяц тому назад, наша рота пересекла Хайратонский мост на БТРах. Нам в тот день, зачем-то, выдали таможенные декларации.
Я не стал заполнять выданный мне бланк. Я прочитал графу о том, есть ли у меня с собой огнестрельное оружие и засмеялся. От того, что мне очень захотелось написать какое-нибудь обидное слово в эту графу. Потому что поперёк моего туловища висел заряженный ручной пулемёт. Под моей задницей покачивался бронированный транспортёр. И вчера весь наш взвод при помощи полкило ветоши и трёх вёдер бензина отдраил от заводской консервации звенья пулемётных лент. При помощи «машинки Ракова» напихали в ленты патронов. В том числе, и с разрывными пулями. С такими малиновыми. Потом отчистили … то есть, сняли заводскую консервацию с крупнокалиберного пулемёта. Собрали его. Зарядили. Вдарили какому-то узбеку витой пружиной по морде. Потому что он сдуру провернул крышку ствольной коробки КПВТ. А оттуда пружина – ка-а-ак выскочит! Ка-а-а-ак выпрыгнет! И прямо ему под глаз. Глаз немедленно потух. Пацана потащили в медсанчасть. И все подумали: «Ну и повезло же дураку! Он теперь в Афган не попадёт». Да-а-а.
И теперь мне предлагают написать, нет ли у меня при себе немножко огнестрельного оружия. Я засмеялся. Но шариковой ручкой обидные слова в декларацию записывать не стал. Подумал, что придёт Майор Зимин и показательно накажет. Там же моя фамилия написана в декларации.
Вместо того, чтобы придумывать обидную нецензурную надпись для графы, я вытащил пачку сигарет. Оранжевая такая пачка, как светофор на перекрёстке. И прописными буквами надпись «Донские». До армии я такого чуда-юда не видывал. А вчера нам выдали их вместе с сухпайком. И вот я держу у себя перед носом эту пачку и думаю – закурить, или не ввязываться
в эту пагубную привычку. Покрутил башкой, посмотрел, что все курят. И
принял для себя решение. О том, что вот так будешь лелеять своё здоровье, будешь оберегать его, заниматься спортом. И тут прилетит злая вражеская пуля и, со словами «бе-бе-бе, вот, назло тебе, потому что – не надо было выёжываться», врежется прямо в самую обидную точку организма. Поэтому, все курят, и ты закури. Не выделяйся, не выделывайся. Это раньше ты был спортсмен. А теперь ты в Армии! Теперь, будь – как все. Тем более, что сигареты тебе выдают бесплатно. Они входят в норму твоего довольствия. И вот я чиркнул спичкой и закурил.
А потом какой-то впереди идущий БТР поймал себе в колесо кусок железнодорожного рельса. Который торчал из полотна дороги. Нет, слушайте, но, может быть, всё же надо удивиться? Что это за дорога такая, из которой торчат куски рельсов, замурованных в бетонное покрытие? Зачем это было сделано?
Потом БТРу меняли колесо. У нашего БТРа колёса сделаны так, что способны выдерживать несколько пулевых попаданий. Но рельс, это уже – с избытком! Даже для нашей Советской Техники. Поэтому колесо меняли.
Это был БТР Орла, то есть, рядового Орлова Андрея Викторовича. Я помню, вот, прям как щас помню, как я познакомился с этим орлом Андрюхой Орловым. Знакомство было трогательное и романтичное. Почти как ужин при свечах. Мы стояли в строю среди песков холднючих зимних Каракумов на Термезском полигоне. К нашему строю привели ещё один небольшой строй. Зачитали список вновь притопавших. Помню, там подряд шли две фамилии: Орлов, Драндров. Ротный их зачитал. Наш строй заржал. Это чё, так смешно что ли – Орлов-Драндров? Да я хрен его знает. В мозгах у солдата пусто, вот солдат и ржёт в строю, хоть палец ему покажи. И вот, фамилии зачитали, наши долбаки поржали и всё, становись в строй и Орлов, и Драндров. Будьте все теперь знакомы. В армии все так всегда знакомятся: зачитали твою фамилию и шагай в строй, будь здоров! Кому ты нахрен нужен сюсюкаться тут с тобой, романтичные знакомства тебе устраивать. Ногой под сраку – и в строй макаку. А по-другому, нельзя. Потому что времени на службу и на подвиги не останется.
НАСТРОЙКИ.
![]()
![]()


СОДЕРЖАНИЕ.
СОДЕРЖАНИЕ

- 1
- 2
- 3
- 4
- » .
- 73
…Сегодня он умер, — угрюмо сказал Джордж Арлекин. — Мне всегда хотелось знать, что чувствовал Лазарь, когда вышел из могилы.
— Я скажу тебе, что он чувствовал, Джордж. Он, только раз взглянув на то, что делают люди друг с другом, тут же начал молиться о возвращении назад в могилу.
Морис Вест. Арлекин.

После четвертого урока, на перемене, меня пригласили в учительскую. В приоткрытую дверь кабинета просунулась рыжая вихрастая голова, любопытная мордашка в веснушках сверкнула белозубой улыбкой и тоненьким голоском пропищала:
— Игорь Викентьевич, Вас к телефону.
Я откинулся от стола, заваленного рефератами по истории, и пробасил, стараясь придать голосу должную солидность:
— Хорошо, сейчас иду. Спасибо.
Мордашка мгновенно исчезла.
По дороге в учительскую, продираясь сквозь толпы горластых школяров, я попытался припомнить: из какого класса этот рыжий? Кажется, из 6 іБі? Или нет, из 6 іАі. Точно, из 6 іАі, Вадик Ведерников. Парнишка он смышленый и любознательный, и я часто отмечал его усердие и тягу к знаниям, что в среде этих оболтусов считалось чуть ли не грехом тяжким, а я, по простоте душевной и тяге к консерватизму, всячески поощрял. Из трех сотен разнузданных горлопанов, что ежедневно перекатывались через меня, как мощнейшее цунами через пустынный берег, непросто было выделить и запомнить кого-то конкретно за тот короткий срок, что я учительствовал, и теперь эта маленькая победа доставила мне удовольствие. Я даже не удержался от мысленной похвалы: іМолодец, Степанов, вырабатываешь профессиональную память… і.
Последние два месяца, после смерти отца, я преподаю историю в школе, в которой когда-то учился сам и в которой мне знаком каждый поворот каждого коридора и каждая лестница, перила на которых вытерты не одну тысячу раз моими руками. И хотя окончил я школу вот уже как десять лет, каждый раз, поднимаясь по ступеням, я почему-то ощущаю себя не учителем истории, а вихрастым и долговязым школяром, вечно опаздывающим на уроки.
После смерти отца был вынужден оставить последний курс истфака университета и перейти на заочное отделение. С деньгами стало туговато, мама едва тянулась на куцую учительскую пенсию, и просить ее помощи у меня не повернулся бы язык. Единственная помощь, которую я от нее принял, — это протекция. Если это можно так назвать. Без диплома меня брать не хотели, но по личной просьбе мамы, а она отдала этой школе двадцать пять лет жизни, все же приняли. И хотя преподавание в школе — не аспирантура, но лучше синица в руках…
В учительской было пусто, если не считать Машеньки Соковой, преподавателя рисования и моей тайной поклонницы, что за эти два месяца стало известно в школе решительно всем. Когда я в первый раз вошел в учительскую и директриса представила меня коллегам, Маша неловко выронила рулоны ватмана и запылала таким сочно-алым цветом, что от ее щек можно было смело прикуривать. Так она и полыхает уже два месяца всякий раз, когда мы с ней сталкиваемся. А, может, и в мое отсутствие тоже. Но за это я не поручусь, потому что на ее неловкие провокации не поддаюсь и за пределами школы с ней не общаюсь, несмотря на обилие робких предложений посетить каких-нибудь знакомых. Понятия не имею, что она во мне нашла? Я худой, длинный и нескладный, любитель крепкого словца, и уши у меня оттопырены, как пельмени. Впрочем, Наташа тоже во мне что-то нашла. А она — примадонна, не чета белобрысой Соковой. К тому же Сокова помешана на своих этюдах. Но, в общем-то, девчонка она ничего, я бы даже назвал ее симпатичной. Вот только солидности в ней ни на грош, отчего она жесточайшим образом страдает. И даже очки-велосипед не спасают ее от школярских насмешек. Очки эти, по слухам, она стала носить с тех пор, как пришла в школу после училища искусств, и все равно школяры иначе как Манька-художница ее не называют. За глаза, разумеется. Впрочем… Тут я мысленно усмехнулся. Еще неизвестно, как меня самого кличут. Может, Степашкой, а может и еще как-нибудь пообиднее. Отношения у нас с Машей неплохие, дружеские, пожалуй, еще и потому, что только мы двое среди преподавателей моложе тридцати. Ну, я еще так-сяк. Мне скоро стукнет двадцать восемь, а Машеньке всего лишь двадцать два, и все, кому за тридцать, кажутся ей музейными экспонатами. Она всегда смешно морщит носик, когда говорит о физруке Анатолии Степановиче, который безуспешно пытается за ней ухаживать: іФи, он такой старый!і. Это Толя-то старый? Ему всего лишь тридцать четыре, и он налит силой, как молодой бык. Мужик в самом расцвете… Впрочем, что она в этом смыслит, бедная Маша, если у нее на уме только краски и кисти. Ну еще и я немного. Кстати, маслом она пишет весьма недурственно.
От порога я лихо отсалютовал ей.
— Марь Андреевна, наше вам с кисточкой! Дух великого Пикассо еще не вселился в вас?
Округлив глаза, Маша посмотрела на меня с недоумением.
— При чем тут Пикассо, Игорь?
Я наставительно поднял вверх палец правой руки, левой поднимая лежащую на столе трубку.
— Машенька, ты должна, да нет, ты просто обязана стать гениальным художником. Внешность тебя обязывает…
Сокова презрительно фыркнула и не замедлила отфутболить колкость обратно:
— На себя посмотри, верста коломенская…
Это мы с ней всегда так пикируемся, выражая таким образом взаимную привязанность. Я залихватски подмигнул ей, на что в ответ увидел ее длинный розовый язык.
В трубке шипело и потрескивало. Послушав несколько секунд тишину, я пошел в 'атаку' первым:
Голос мамы был на удивление чистым и отчетливым, словно она звонила из соседнего дома.
— Игорек, я тебе что звоню: ты зайди, пожалуйста, после уроков, в магазин, хорошо? Купи молоко, хлеб и сыр. Да, и еще в аптеку за валидолом. У меня кончается…
Я усмехнулся. Мама, мама… До сих пор считает меня ребенком.
— Ма, не после уроков, а после работы. Не забывай, что я уже не школяр, и даже не студент… к сожалению.
— Хорошо, хорошо. Не сердись, сын, я оговорилась. Конечно же, после работы… И почему — к сожалению? Окончишь университет на год позже, ничего страшного. Ты же сам решил.
Подавив тоскливый вздох, я голосом примерного ребенка отбарабанил:
— Да, конечно. Я не сержусь. Я зайду в магазин и в аптеку тоже. У тебя все, ма? Перемена скоро кончается…
— Да. Хотя нет, подожди… Сегодня опять звонил Валя Безуглов, уже в третий раз. Все никак не может застать тебя дома, у тебя же смены постоянно меняются. Я попросила его зайти в воскресенье. Я правильно поступила?
— Конечно, мама. Я его уже сто лет не видел. Как он?
— Не знаю, Игореша. Он о себе ничего не рассказывал, скуп стал на слова. Сказал только, что вернулся совсем… Ну, пока, сын?
«Зуб Дракона». Записки советского солдата.
В этой книге не будет роскошных мундиров, подвесок королевы, за которыми друзья-мушкетёры поскакали за тридевять земель. Не будет придуманной человеком драматургии и сюжетной линии. Драматургия и сюжетная линия одна – война. Автор тот же – война. По сути Вы читаете дневник. Этот дневник составлен солдатами и офицерами Горнострелковой роты из Третьего горного батальона. Мы собрались после войны у Командира роты и приняли решение восстановить события и написать подобие дневника. Меня назначили «писарем». Как умел, так я и написал. Не взыщите строго.


2 июня, по дороге, пронизывающей эту Чарикарскую Зелёнку, идёт колонна бронетранспортёров БТР-70В. Сверху на броне навязаны ящики с боеприпасами, вещмешки и на всём этом добре цыганским табором сидят солдаты. Все в бронежилетах, в касках, с оружием в руках. Это Гвардейская Седьмая Горно-стрелковая Рота выдвинулась из Баграма к новому месту дислокации, расположенному в Панджшерской долине. Что это за долина, что это за Панджшер, я ещё ни разу в жизни не видел. Но уже кое-что слышал. Для начала меня удивило само название «Панджшер». Что за манеры – напихать столько шипящих в одно слово. Да ещё подряд – череда одних согласных. Как же это можно произнести? Какое-то шипение сплошное, а не название. И вот первое, что я услышал - перевод этого сложного слова. Панджш, это – пять. Шер, это – лев. То есть, «Ущелье Пяти львов». Потом я услышал, что в этом ущелье самому Александру Македонскому не то дали звездюлей, не то надрали задницу, не то остановили его и дальше не пустили, что, в общем-то, одно и то же. Практически, то же самое.
Очень романтическая история. Слушал бы и слушал. Если бы мне не надо было туда ехать и делать то, что не получилось у Македонского. А потом, в Баграме, я послушал тех, кто в том Панджшере побывал. На территории палаточного городка 108-й дивизии, недалеко от палаток нашей роты, стояли палатки спецназовцев. Как-то в мае 1984-го в эти палатки пришагали пацаны, одетые в блёклое, выцветшее на афганском солнце обмундирование. На ногах – у кого кроссовки, у кого кеды. На головах – спецназовские кепки, панамы и, вообще, что попало. В руках, либо пулемёт ПК с лентой на 100 патронов, либо снайперка. Пара человек вооружена АКМами с ПБС (приспособление для бесшумной стрельбы). На каждом АКМе – подствольный гранатомёт. А мы такие зелёненькие, в свежих хэбухах защитного цвета. В начищенных до блеска черных полусапожках. Рядом с ними мы выглядели как Кремлёвские Курсанты. Ну, одним словом, они уже ветераны, а мы – «только с вертушки». Мы ничего не знаем, ничего не умеем. И годимся только пускать сопли и мести двор ржавой лопатой.

А прикол весь в том, что притопали те пацаны из Панджшера. Они простояли в Рухе, в столице Панджшера, полгода. И теперь их вывели, а нас туда вводят. Ясный пень, что мы побежали слушать этих пацанов. Что же это там за Руха, что в ней происходит, и чего нам от неё ждать. Вкратце их рассказы сводились к тому, что они при свете дня по Рухе перемещались – либо бегом, либо ползком. Потому что с гор постоянно работали снайперы противника, стреляли крупнокалиберные пулемёты ДШК и лупили восьмидесятимиллиметровые миномёты. И из-за этого нам следует ждать от Рухи бесконечную горную войну, мины всех видов и конструкций, вкалывание до седьмого пота. Днём жара, ночью дубак, обезвоживание… Ништяк перспектива! И вот теперь в эту Руху я еду на БТРе. И единственное, что из рассказов спецназовцев хоть как-то скрашивало перспективу, это то, что в Рухе – красивая природа. Я и так попыжился, и сяк попыжился, чтобы представить себе – как может быть красивая природа в горах. В блёклой дымке, в детстве, я один раз видел заснеженные вершины Кавказского хребта. В Грузии, с пляжа, на берегу Чёрного моря. И как я могу представить себе красивую природу в горах? Никак я не могу себе её представить. Поэтому в голове у меня получалось только то, что я еду лазить по минам без воды в жару и в пургу под пулями снайперов. На какой-то там красивой природе! Любой здравомыслящий человек в такие минуты захочет ущипнуть себя за что-нибудь мягкое, чтобы взвизгнуть и проснуться в холодном поту. Обвести очумелым взглядом уютную комнату в советской квартире, вытереть со лба набежавшую от ужаса испарину и выдохнуть – пф-ф-ф, надо же! Привидится такое! И я щипаю себя. За правое бедро. Не-а! Не помогает. Я щипаю ещё раз, сильнее. Потом щипаю, вообще, пуще прежнего. Но БТР не исчезает. Он прёт по колдобинам разбитой афганской дороги, визжит движками, пылит и очень сильно качает.
- Что, Димон? Мандавошки, что ли, егозят под штанами? – Это мой дружбан Серёга Губин решил блеснуть остроумием. Насчёт моих пощипываний самого себя за ляжку.
- Нет. Спортивный массаж себе делаю перед подъёмом в горы!
- А-а-а, ну давай-давай! Вам, спорЦмэнам без массажа по горам – никак! А нам, разгильдяям, надо покурить сигаретку. Чтобы лёгкие привыкали к разреженному воздуху.
БТР сильно толкнуло на очередном ухабе. Мы всем набором костей звякнули задницами по броне.
- Ништяк плацкарта! – Серёга щурится в улыбке. Морщинки лучиками расходятся в уголках глаз. Он источает приступ счастья.
Боже, когда же мы уже доедем? С другой стороны, а тебе что, не терпится по такой жарище полезть на гору по ржавым минам с центнером железа на плечах? Куда ты торопишься доехать? Не в Гагру же тебя везут. Едь, пока едется! С этой мыслью я покрутил настройки своей зрительной системы и принялся изо всех сил наводить резкость на проплывающие мимо меня пейзажи. Виноградники. Сады. Жёлтые глинобитные дувалы. Как детские жёлтые кубики, составленные друг на друга. Бачи, одетые в свою мешковатую, развивающуюся на ветру одежду. И срач! Вечный вездесущий срач, как образ жизни.

Я ехал, судорожно хватался за железяки БТРа, чтобы не свалиться. Тихо дурел от увиденного. И неожиданно поймал себя на мысли, что вот эти все замурзанные бачи, что вот эти все полудикие люди, они гораздо более свободны, чем я. Я уже почти год не могу себе позволить выйти вот так, присесть на корточки возле кучи мусора. Засунуть руки в карманы. Или засунуть себе в клюв сигарету. Наполненную чарзом. И сидеть, сведя глаза в переносицу, делать себе вакуум в черепной коробке.
- Серёга, а ты до войны чарз курил? – Я наклоняюсь к Серёге, чтобы перекричать рёв движков БТРа.
- Ха! У нас, на Северном Кавказе, када коноплю комбайны убирают, там тада на шкивах по всему комбайну – во! – Серёга вскидывает к моему носу свой указательный палец. – Во! В, палец толщиной вот эта вся фигня ремнями сбита. Такое густое, прям, как пластилин. У нас так его и называли. Либо пластилин, либо шмаль. Чарз, это тут, на местном языке. А у нас такого слова не было.
- Взвод! От техники никуда не отходим! – Это командир взвода старший лейтенант Старцев встал в командирском люке и повернулся к нам. БТР сильно качнулся, остановился. Сбросил обороты движков и теперь командир взвода может докричаться до нас.
– Впереди развилка дорог. Пропустим встречную колонну и пойдём дальше.

Это мы заехали в кишлак Гульбахор. Встали по середине улицы дуканов. БТР тут же окружила стайка бачей.
- Так, пацаны! – Фарид, наш водила, вылез из люка, встал ногами на броню и обратился ко всем, сидящим на его БТРе, – Эта малышня сейчас весь БТР разукомплектует. Поэтому, разобрались все вокруг машины, и не подпускайте их к технике!
Фарид – уже Дедушка Советской Армии. В Афгане полтора года. Он знает, что делать. Поэтому мы с Серёгой соскочили с брони на дорогу и встали возле БТРа. Потянулись, размяли ноги, покрутили жопами. Подошёл пацан лет двенадцати. Чумазый. Страшный, как моя доля. Показал пальцем на двуручную пилу, закреплённую на броне заводом-изготовителем.
- Чан афгани? – Это значит – «сколько тебе за неё дать денег».
- Буру, бача. – Это Фарид ему. А это значит – «уйди, пацан».
Пацан показывает на большую сапёрную лопату. Закреплённую рядом с пилой. И тот же вопрос:
- Ты чё, не догоняешь по-русски? – Это уже Серёга пацану. – Ты чё, душман?
- Душман нист! Душман Панджшер! – Пацан махнул рукой куда-то на север. Но от БТРа отошёл. Вот интересно, подумал я сам себе. Даже двенадцатилетний сопляк знает, где находится этот Панджшер. А я, уже нормальный крендель, отучился год в университете, и ни разу не знаю, где тот Панджшер. Ну ладно, я завтра доеду и узнаю. А он вряд ли когда-нибудь хоть что-нибудь узнает про Минск. У каждой лягушки должно быть своё личное любимое болото. Потом колонна снова поехала.
Потом снова остановилась. На этот раз никто не объяснял нам, зачем мы стоим. А жарко было – пипец-пипец! И мы слезли с раскалённой брони и полезли на каменную стену, которая огораживала сад с огромными фруктовыми деревьями. Там была тень и прохлада. Мы спрятались туда от жары.

Туда же вышел высокий пожилой мужик с длинной бородой и в белой мешковатой одежде. Не знаю, может быть он был и не пожилой, но вот – такая длинная борода! По нашим европейским понятиям, это – Дедушка Мороз. Только он не успел одеть красную шубу и шляется по саду в белых, вызывающих смех, подштанниках. Наверное, смотрит, чтобы мы ничего не стырили.
- Душман?! – Серёга снова проявил чудеса остроумия. И знание местного диалекта. Поэтому навёл на дядьку указательный палец и спросил поражающий своей глубиной вопрос. А дальше повторилось всё то же самое.
- Нист душман! Душман Панджшер! – дядька махнул рукой на север.
«Слушай, они тут все знают, где Панджшер. И все знают, где искать душманов», – подумал я про их способности к географии. Но потом колонна поехала и оказалось, что Панджшер был буквально за забором от этого сада. Буквально, за первым попавшимся поворотом Чарикарская Зелёнка схлопнулась. Из коричневых корявых скальных торосов потекла бурлящим потоком вода. И наш БТР поехал прямо в эту воду.

Полотно дороги так близко подходило к водным бурунам, что казалось, нашему БТРу придётся расталкивать эти буруны и коричневые булыганы плечами, чтобы пролезть в горловину входа в Панджшерское ущелье. Полотно дороги, это не полотно дороги вовсе. Я не могу в русском языке подобрать подходящих слов для этих ям, выбоин и колдобин, по которым мы ехали ко входу в Панджшер. То ли река, то ли ещё какое чудо природы пробило в коричневых скалах дыру. Из этой дыры вываливается бурлящая, ревущая вода. И вот у этой воды отковыряли полосочку территории. И мы теперь по этой территории пытаемся прощемиться внутрь. Страшно – аж жуть! Слева скала. Справа ревёт вода. БТР качает на камнях и колдобинах. А на тебе бронежилет 12 кг, каска, и в руках пулемёт. Ну, допустим, подсумок с магазинами ты можешь с себя снять и закинуть внутрь БТРа. А остальное? Вот долбанёт под колесом БТРа мина, или на яме БТР сильно подскочит. Или ещё какая зараза. И что ты должен делать? Ты дохрена проплывёшь в бронежилете и в каске? А с пулемётом в руках? Я ещё ни разу не пробовал. Но что-то мне подсказывает, что – как кирпич. У топора – хоть черенок пытается всплыть, если его с БТРа сбросить в воду. А у кирпича только «бул-тых»… и драные носки дымятся на СПСе (СПС – стрелковое полевое сооружение). Нет, не то сказал. И грязные брызги полетели в разные стороны. А в такой бурлючке, да тут первое же, что с тобой произойдёт, это тебе об камни переломает шею. Рёбра останутся целыми. Бронежилеты у нас делают хорошие. А с шеей как быть? Как со сломанной шеей плавать под водой, в бурунах и с пулемётом в руках? Бросить его нельзя. За это будет трибунал. Ну, даже пусть бы хрен на тот трибунал. А что я бате скажу? Как это меня призвали в Армию, а я просра… протерял личное оружие и угодил под трибунал? Поэтому я изо всех сил цеплялся скрюченными пальцами за раскалённую броню и судорожно сжимал-разжимал закорючки извилин. Пытался выжать из них максимальную умственную мощность, чтобы придумать, что же, всё-таки, делать, если что-то пойдёт не так. Очко так сильно сжалось от натуги, что пришлось забыть про жару, про то, что хочется пить, и только одна мысль – «если БТР начнёт заваливаться левым бортом вверх, то бегу на левый борт вверх».

Если удастся сделать такой манёвр при сползании БТРа в реку, то есть шанс остаться на полотне. А если правым бортом вверх, то – что делать? А если вверх правым, то мне – капут! Потому что, задирая вверх правый борт, БТР прижмётся к скале. И раздавит всех, как слизняков. Спрыгивать с БТРа в воду? Ага, прикинь так, БТР начнёт валиться, задирая правый борт. Я очкану, спрыгну в воду. А БТР устоит. Обидно же будет? Нет, конечно же. Потому что, убьюсь, если спрыгну. БА-БАХ! И впереди идущий БТР стал крениться вверх левым передним углом. По диагонали. Вот этого я точно никак не ожидал! А на самом деле – всё просто. Серёга Кондрашин, который сидел за баранкой этого БТРа, ни хрена не умел представлять габариты управляемой им единицы боевой техники. В степи, в Казахстане, никто и никогда об этом не догадался бы. А вот на узкой горной дороге – догадались. Потому что БТР усандалился мордой в скалу и полез на неё, шкрябая волноотражателем по базальту. Первым обо всём догадался пацан, который сидел на запаске. На башню этого БТРа закинули запасное бронированное колесо (запаску). Кряхтели, пердели, но затащили. Потому что оно весит 120 килограммов. И в это колесо уселся самый борзый дембель. Свил гнездо, как орёл, ещё подумал тогда я. И вот сейчас этот орёл из того гнезда полетел кверху тормашками. Шлёпнулся в пылищу и сразу же обо всём догадался. Бац, бац, бац – пошлёпались на жопы в ту же пылищу остальные пацаны с того БТРа. И тоже обо всём догадались! И стали кричать на Кандера, что ему не надо БТР водить. Ему надо стадо баранов водить. Но это всё ерунда. Самое грустное было в том, что закричал Рязанов.
- Кондрашин! Шагом марш из-за руля!
Это – очень страшные слова. Потому что Рязанов у нас – Командир Роты. И это он решает, кто будет крутить баранку, а кто таскать вещмешок по ржавым минам. И похоже, что Кондрашин теперь будет таскать вещмешок по ржавым минам.
НАСТРОЙКИ.
![]()
![]()


СОДЕРЖАНИЕ.
СОДЕРЖАНИЕ

- 1
- 2
- 3
- 4
- » .
- 73
…Сегодня он умер, — угрюмо сказал Джордж Арлекин. — Мне всегда хотелось знать, что чувствовал Лазарь, когда вышел из могилы.
— Я скажу тебе, что он чувствовал, Джордж. Он, только раз взглянув на то, что делают люди друг с другом, тут же начал молиться о возвращении назад в могилу.
Морис Вест. Арлекин.

После четвертого урока, на перемене, меня пригласили в учительскую. В приоткрытую дверь кабинета просунулась рыжая вихрастая голова, любопытная мордашка в веснушках сверкнула белозубой улыбкой и тоненьким голоском пропищала:
— Игорь Викентьевич, Вас к телефону.
Я откинулся от стола, заваленного рефератами по истории, и пробасил, стараясь придать голосу должную солидность:
— Хорошо, сейчас иду. Спасибо.
Мордашка мгновенно исчезла.
По дороге в учительскую, продираясь сквозь толпы горластых школяров, я попытался припомнить: из какого класса этот рыжий? Кажется, из 6 іБі? Или нет, из 6 іАі. Точно, из 6 іАі, Вадик Ведерников. Парнишка он смышленый и любознательный, и я часто отмечал его усердие и тягу к знаниям, что в среде этих оболтусов считалось чуть ли не грехом тяжким, а я, по простоте душевной и тяге к консерватизму, всячески поощрял. Из трех сотен разнузданных горлопанов, что ежедневно перекатывались через меня, как мощнейшее цунами через пустынный берег, непросто было выделить и запомнить кого-то конкретно за тот короткий срок, что я учительствовал, и теперь эта маленькая победа доставила мне удовольствие. Я даже не удержался от мысленной похвалы: іМолодец, Степанов, вырабатываешь профессиональную память… і.
Последние два месяца, после смерти отца, я преподаю историю в школе, в которой когда-то учился сам и в которой мне знаком каждый поворот каждого коридора и каждая лестница, перила на которых вытерты не одну тысячу раз моими руками. И хотя окончил я школу вот уже как десять лет, каждый раз, поднимаясь по ступеням, я почему-то ощущаю себя не учителем истории, а вихрастым и долговязым школяром, вечно опаздывающим на уроки.
После смерти отца был вынужден оставить последний курс истфака университета и перейти на заочное отделение. С деньгами стало туговато, мама едва тянулась на куцую учительскую пенсию, и просить ее помощи у меня не повернулся бы язык. Единственная помощь, которую я от нее принял, — это протекция. Если это можно так назвать. Без диплома меня брать не хотели, но по личной просьбе мамы, а она отдала этой школе двадцать пять лет жизни, все же приняли. И хотя преподавание в школе — не аспирантура, но лучше синица в руках…
В учительской было пусто, если не считать Машеньки Соковой, преподавателя рисования и моей тайной поклонницы, что за эти два месяца стало известно в школе решительно всем. Когда я в первый раз вошел в учительскую и директриса представила меня коллегам, Маша неловко выронила рулоны ватмана и запылала таким сочно-алым цветом, что от ее щек можно было смело прикуривать. Так она и полыхает уже два месяца всякий раз, когда мы с ней сталкиваемся. А, может, и в мое отсутствие тоже. Но за это я не поручусь, потому что на ее неловкие провокации не поддаюсь и за пределами школы с ней не общаюсь, несмотря на обилие робких предложений посетить каких-нибудь знакомых. Понятия не имею, что она во мне нашла? Я худой, длинный и нескладный, любитель крепкого словца, и уши у меня оттопырены, как пельмени. Впрочем, Наташа тоже во мне что-то нашла. А она — примадонна, не чета белобрысой Соковой. К тому же Сокова помешана на своих этюдах. Но, в общем-то, девчонка она ничего, я бы даже назвал ее симпатичной. Вот только солидности в ней ни на грош, отчего она жесточайшим образом страдает. И даже очки-велосипед не спасают ее от школярских насмешек. Очки эти, по слухам, она стала носить с тех пор, как пришла в школу после училища искусств, и все равно школяры иначе как Манька-художница ее не называют. За глаза, разумеется. Впрочем… Тут я мысленно усмехнулся. Еще неизвестно, как меня самого кличут. Может, Степашкой, а может и еще как-нибудь пообиднее. Отношения у нас с Машей неплохие, дружеские, пожалуй, еще и потому, что только мы двое среди преподавателей моложе тридцати. Ну, я еще так-сяк. Мне скоро стукнет двадцать восемь, а Машеньке всего лишь двадцать два, и все, кому за тридцать, кажутся ей музейными экспонатами. Она всегда смешно морщит носик, когда говорит о физруке Анатолии Степановиче, который безуспешно пытается за ней ухаживать: іФи, он такой старый!і. Это Толя-то старый? Ему всего лишь тридцать четыре, и он налит силой, как молодой бык. Мужик в самом расцвете… Впрочем, что она в этом смыслит, бедная Маша, если у нее на уме только краски и кисти. Ну еще и я немного. Кстати, маслом она пишет весьма недурственно.
От порога я лихо отсалютовал ей.
— Марь Андреевна, наше вам с кисточкой! Дух великого Пикассо еще не вселился в вас?
Округлив глаза, Маша посмотрела на меня с недоумением.
— При чем тут Пикассо, Игорь?
Я наставительно поднял вверх палец правой руки, левой поднимая лежащую на столе трубку.
— Машенька, ты должна, да нет, ты просто обязана стать гениальным художником. Внешность тебя обязывает…
Сокова презрительно фыркнула и не замедлила отфутболить колкость обратно:
— На себя посмотри, верста коломенская…
Это мы с ней всегда так пикируемся, выражая таким образом взаимную привязанность. Я залихватски подмигнул ей, на что в ответ увидел ее длинный розовый язык.
В трубке шипело и потрескивало. Послушав несколько секунд тишину, я пошел в 'атаку' первым:
Голос мамы был на удивление чистым и отчетливым, словно она звонила из соседнего дома.
— Игорек, я тебе что звоню: ты зайди, пожалуйста, после уроков, в магазин, хорошо? Купи молоко, хлеб и сыр. Да, и еще в аптеку за валидолом. У меня кончается…
Я усмехнулся. Мама, мама… До сих пор считает меня ребенком.
— Ма, не после уроков, а после работы. Не забывай, что я уже не школяр, и даже не студент… к сожалению.
— Хорошо, хорошо. Не сердись, сын, я оговорилась. Конечно же, после работы… И почему — к сожалению? Окончишь университет на год позже, ничего страшного. Ты же сам решил.
Подавив тоскливый вздох, я голосом примерного ребенка отбарабанил:
— Да, конечно. Я не сержусь. Я зайду в магазин и в аптеку тоже. У тебя все, ма? Перемена скоро кончается…
— Да. Хотя нет, подожди… Сегодня опять звонил Валя Безуглов, уже в третий раз. Все никак не может застать тебя дома, у тебя же смены постоянно меняются. Я попросила его зайти в воскресенье. Я правильно поступила?
— Конечно, мама. Я его уже сто лет не видел. Как он?
— Не знаю, Игореша. Он о себе ничего не рассказывал, скуп стал на слова. Сказал только, что вернулся совсем… Ну, пока, сын?
– Сегодня он умер, – угрюмо сказал Джордж Арлекин. – Мне всегда хотелось знать, что чувствовал Лазарь, когда вышел из могилы.
– Я скажу тебе, что он чувствовал, Джордж. Он, только раз взглянув на то, что делают люди друг с другом, тут же начал молиться о возвращении назад в могилу.
Морис Вест. «Арлекин».РОССИЯ, ГОРОД НА ЮЖНОМ УРАЛЕ. СЕРЕДИНА 1990-ых
© Алексей Клёнов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Скрипнув, лифт остановился, двери с повизгиванием разъехались в стороны и на площадку выскользнула брюнетка лет двадцати с небольшим. Красивая, элегантно одетая, но без косметики и во всем черном. И лицо припухшее, словно от слез. Подойдя к двери с табличкой «206» девушка осторожно подняла руку к кнопке звонка и замерла в нерешительности. Несколько секунд она теребила край блузки, хмурясь и покусывая губы, глядя на дверь мрачным взглядом. Потом, словно решившись на прыжок с трамплина, утопила кнопку звонка. Звонок промурлыкал мелодию, за дверью послышался женский голос «Сейчас!» и защелкали замки. В приоткрывшуюся дверь выглянула блондинка в очках, со строгим лицом и шаловливыми чертиками в увеличенных линзами глазах. Этакая типичная училка начальных классов, привыкшая снисходительно смотреть на шалости малолетних школяров. При взгляде на гостью глаза у нее посерьезнели. В них даже отразилось словно бы некое ожидание, и даже тень испуга промелькнула. Однако спросила она ровным голосом:
Брюнетка с силой сцепила пальцы рук и хрипловато ответила вопросом на вопрос:
– Могу я видеть Игоря Викентьевича?
– Да, конечно. А по какому поводу?
– Это я ему скажу.
Пожав плечами, хозяйка повернула голову и крикнула в глубину квартиры:
– Игореша, это к тебе!
В прихожую вышел брюнет лет тридцати, высокий, чуть сутуловатый, с левой рукой на перевязи из черного шелкового платка. Блондинка чуть отступила в сторону и, кивнув на гостью, повторила:
Игорь сделал здоровой рукой приглашающий жест:
Брюнетка шагнула в прихожую, окинула Степанова взглядом и уточнила:
– Это Вы Игорь Степанов?
Не отвечая на вопрос, брюнетка прищурилась и вдруг залепила Степанову звонкую пощечину. Блондинка ойкнула, растеряно протянула: «Ну, Вы, блин, даете. ». Но уже в следующую секунду решительно шагнула к нахалке, и возмущенно рявкнула:
– Да Вы что себе позволяете?!
Степанов, потирая рукой покрасневшую щеку, жестом остановил ее:
– Подожди, Маша. А Вы, молодая леди, извольте объяснить, что сие означает?
Брюнетка процедила сквозь зубы, глядя на Степанова с откровенной ненавистью:
– Это тебе за Валентина.
Отступив шаг назад, она еще раз смерила Степанова ненавидящим взглядом и смачно добавила:
Повернувшись, девушка шагнула за дверь, но замерла на месте, услышав вопрос Игоря:
Снова обернувшись, Валя уже без эмоций, как-то тускло, посмотрела на Игоря и сказала с прорывающейся болью:
– Все, что тебе было нужно сделать, это понять его. Не отталкивать, не обвинять его в чем-то, а просто понять. Понимаешь? Просто понять. Как человеку. Как другу. Он же к тебе за помощью пришел. Потому что никто, ты слышишь, никто не мог бы помочь ему в тот момент кроме тебя! А ты… Ты! Если бы я знала тогда!
Прервавшись, Валя стремительно побежала по ступеням вниз, не пытаясь вызвать лифт. Каблучки ее сапожек звонко зацокали по ступеням, а поникший Игорь проводил ее долгим взглядом. Маша за его спиной снова возмутилась:
– Да как она смеет?! Случайная, можно сказать приблудная, и туда же – судить берется…
Игорь жестом остановил ее:
– Она смеет, солнышко, смеет.… Смеет потому, что имеет больше прав на Валькину память, чем я. Это я не смог понять его в трудную минуту и предал его, оттолкнув от себя. А она была с ним рядом. Не рассуждая о том, хорош он или плох, не оценивая его поступки, не читая нотаций. А просто была рядом. Наверное, действительно было бы лучше, если бы в тот вечер с ним был не я, а она. Лучше потому, что она сумела его понять и дать ему прощение. Она, которая знала его живого только сутки, а не я, который с ним знаком с детских лет.
– Но это же жестоко, Игорь! Неправильно и жестоко обвинять тебя в смерти Валентина.
Закрыв дверь, Игорь уперся в нее лбом, и глухо ответил:
– Да, она была не права. Не права в том, что выбрала для меня слишком мягкое наказание. Я заслуживаю гораздо худшего, потому что никто так не виноват в Валькиной смерти, как я…
Глава 1. Степанов
После четвертого урока, на перемене, меня пригласили в учительскую. В приоткрытую дверь кабинета просунулась рыжая вихрастая голова, любопытная мордашка в веснушках сверкнула белозубой улыбкой и тоненьким голоском пропищала:
– Игорь Викентьевич, Вас к телефону.
Я откинулся от стола, заваленного рефератами по истории, и пробасил, стараясь придать голосу должную солидность:
– Хорошо, сейчас иду. Спасибо.
Мордашка мгновенно исчезла.
По дороге в учительскую, продираясь сквозь толпы горластых школяров, я попытался припомнить: из какого класса этот рыжий? Кажется, из 6 «Б»? Или нет, из 6 «А». Точно, из 6 «А», Вадик Ведерников. Парнишка он смышленый и любознательный, и я часто отмечал его усердие и тягу к знаниям, что в среде этих оболтусов считается чуть ли не грехом тяжким, а я, по простоте душевной и тяге к консерватизму, всячески поощрял. Из трех сотен разнузданных горлопанов, что ежедневно перекатывались через меня, как мощнейшее цунами через пустынный берег, непросто было выделить и запомнить кого-то конкретно за тот короткий срок, что я учительствовал, и теперь эта маленькая победа доставила мне удовольствие. Я даже не удержался от мысленной похвалы «Молодец, Степанов, вырабатываешь профессиональную память».
Последние два месяца, после смерти отца, я преподаю историю в школе, в которой когда-то учился сам, и в которой мне знаком каждый поворот каждого коридора и каждая лестница, перила на которых вытерты не одну тысячу раз моими руками. И хотя окончил я школу вот уже как десять лет, каждый раз, поднимаясь по ступеням, я почему-то ощущаю себя не учителем истории, а вихрастым и долговязым школяром, вечно опаздывающим на уроки.
После смерти отца я был вынужден оставить последний курс истфака университета и перейти на заочное отделение. С деньгами стало туговато, мама едва тянулась на куцую учительскую пенсию, и просить ее помощи у меня не повернулся бы язык. Единственная помощь, которую я от нее принял, – это протекция. Если это можно так назвать. Без диплома меня брать не хотели, но по личной просьбе мамы, а она отдала этой школе двадцать пять лет жизни, все же приняли. И хотя преподавание в школе, – не аспирантура, но лучше синица в руках…
В учительской было пусто, если не считать Машеньки Соковой, преподавателя рисования и моей тайной поклонницы, что за эти два месяца стало известно в школе решительно всем. Когда я в первый раз вошел в учительскую и директриса представила меня коллегам, Маша неловко выронила рулоны ватмана и запылала таким сочно-алым цветом, что от ее щек можно было смело прикуривать. Так она и полыхает уже два месяца всякий раз, когда мы с ней сталкиваемся. А, может, и в мое отсутствие тоже. Но за это я не поручусь, потому что на ее неловкие провокации не поддаюсь и за пределами школы с ней не общаюсь, несмотря на обилие робких предложений посетить каких-нибудь знакомых. Понятия не имею, что она во мне нашла? Я худой, длинный и нескладный, любитель крепкого словца, и уши у меня оттопырены, как пельмени. Впрочем, Наташа тоже во мне что-то нашла. А она – примадонна, не чета белобрысой Соковой. К тому же Сокова помешана на своих этюдах. Но, в общем-то, девчонка она ничего, я бы даже назвал ее симпатичной. Вот только солидности в ней ни на грош, отчего она жесточайшим образом страдает. И даже очки «велосипед» не спасают ее от школярских насмешек. Очки эти, по слухам, она стала носить с тех пор, как пришла в школу после училища искусств, и все равно школяры иначе как Манька-художница ее не называют. За глаза, разумеется. Впрочем… Тут я мысленно усмехнулся. Еще неизвестно, как меня самого кличут. Может, Степашкой, а может и еще как-нибудь пообиднее. Отношения у нас с Машей неплохие, дружеские, пожалуй, еще и потому, что только мы двое среди преподавателей моложе тридцати. Ну, я еще так-сяк. Мне скоро стукнет двадцать восемь, а Машеньке всего лишь двадцать два, и все, кому за тридцать, кажутся ей музейными экспонатами. Она всегда смешно морщит носик, когда говорит о физруке Анатолии Степановиче, который безуспешно пытается за ней ухаживать «Фи, он такой старый!». Это Толя-то старый? Ему всего лишь тридцать четыре, и он налит силой, как молодой бык. Мужик в самом расцвете… Впрочем, что она в этом смыслит, бедная Маша, если у нее на уме только краски и кисти. Ну, еще и я немного. Кстати, маслом она пишет весьма недурственно.
Читайте также: